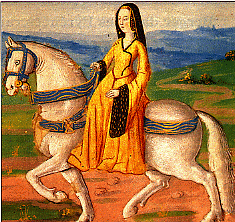Поддержите наш проект
Номер Яндекс-кошелька: 41001425646399
Цитата недели
Мне как лесбиянке/феминистке мои чувства и моя плоть, как и мой разум, подсказывают, что связи между женщинами и среди женщин есть наиболее пугающая, наиболее проблематичная и наиболее потенциально трансформирующая сила на планете.
Адриенна Рич (Adrienne Rich)Рубрики
Ссылки
Метки
Вера Акулова ЛГБТ Микаэла Яна Ситникова аборт аборты активизм внутренняя мизогиния гендерная социализация гомосексуальные женщины гомофобия гомофобное законодательство в России группы движение за рубежом девочки доброжелательный сексизм домашнее насилие известные феминистки изнасилование инвалидность интервью контрацепция лесбийский феминизм маскулинность материнство мизогиния мифы о феминизме насилие невидимые женщины отношения отношения между женщинами повседневный сексизм радикальный феминизм расизм репродуктивные права российская история российская политика секс сепаратизм т* женщины теория феминизма трансфеминизм феминистское искусство церковь эйблизм
Концептуальное искусство
08.09.20201966 год был годом не только «Первичных структур» — первого музейного обзора минимализма в Нью-Йорке (состоявшегося в Еврейском музее), но также и «Эксцентричной абстракции» в том же Нью- Йорке — первой галерейной выставки искусства, воспринимаемого как эксцентрическое отклонение от минимализма и в формальном, и в психологическом отношении. По мнению ее куратора, критика Люси Липпард, необычные субстанции, которым придали странные формы Луиз Буржуа, Ева Хессе, Брюс Науман, Кит Соннир и другие художники, составляли «эмоциональную или эротическую альтернативу» минимализму, ставшему, таким образом, нормативным уже к началу 1966 года. И если 1968 год увидел еще один музейный обзор минимализма, «Искусство реального» в МоМА, то 1969-й ознаменовался первыми свидетельствами институционального признания постминимализма: как следует из названий выставок, «Антииллюзия: процедуры/материалы» в нью-йоркском Музее Уитни сфокусировалась на процесс-арте, а «Когда отношения становятся формой» («When Attitudes Become Form») в бернском Кунстхалле и затем в лондонском Институте современного искусства продемонстрировала международный арсенал постминималистских подходов (ее подзаголовок гласил: «Произведения — Концепции — Процессы — Ситуации — Информация»).
Как понимать этот водоворот позиций и контрпозиций, выставок и контрвыставок, форсированный даже по меркам авангарда? О чем сигнализировал постминимализм: о новом состоянии художественной свободы и критической полемики или об эстетической неразберихе и дискурсивной тревоге? Что происходило: прорыв к новым материалам и методам или распад конвенций, коллапс медиума? Или и то и другое одновременно — рожденное из кризиса обновление, когда после преодоления минимализмом живописи и скульптуры возникли новые креативные возможности и отправные пункты, своего рода заместители медиума: манипулирование субстанциями и системами в процесс-арте и концептуализме и маркирование тел и мест в перформансе и инсталляции? У ребенка день рождения? Не забудьте заказать шарики, чтобы создать праздничное настроение.
Но сколь бы разными они ни были, всеэти практики стали ответом на кризис медиума, остро поставивший два вопроса: есть ли нижний предел материальности произведения искусства, нулевая степень его визуальности? И может ли таким же образом сойти на нет или по крайней мере измениться в своих проявлениях интенци- ональность художника? Ответы на эти два вопроса зачастую разнились даже внутри отдельных лагерей. Если некоторые концептуальные художники «дематериализовали» искусство (по знаменитому выражению Липпард), то представители процесс-арта с лихвой его рематериализовали: вспомним латексные создания Евы Хессе или полиуретановые образования Линды Бенглис (род. 1941); «эксцентричная абстракция» — еще мягкое название для таких работ. Что касается интенциональности, то некоторые процессуальные художники рассматривали новые материалы просто как проводники для своих интенций (например, Бенглис, действительно превратившая «позиции» в «форму»), в то время как других интересовали внутренние свойства, которые работа могла раскрыть автоматически, словно без всякого авторского вмешательства: так, Моррис давал войлочным лентам свободно свешиваться со стены (1], а кучам спутанных ниток — оседать на полу, в то время как Серра позволял свинцу принять форму окружающего помещения [2]. Как и в концептуализме, разделившемся по трактовке концепции — как чистой интенции (Джозеф Кошут) и как квазиавтоматической «машины» (Сол Левитт), этот раскол по вопросу интенциональности отчасти основывался на разных толкованиях Дюшана — на понимании реди-мейда как акта декларативного выбора («Я нарекаю этот писсуар искусством») или как попытки полностью исключить выбор («Реакция визуального безразличия < ...>, полная анестезия», как однажды завил Дюшан).